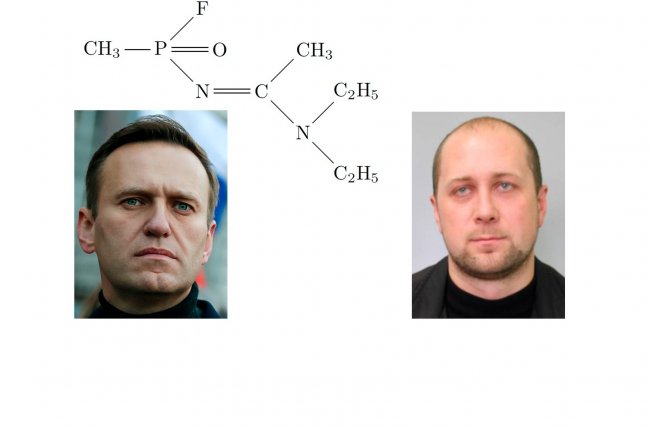Лидеры сомнений. Как работала культура отмены в русской литературе 19-20 веков - «Мнения»

Илья Клишин
журналист, медиаконсультант
На фоне яростных обсуждений визабана немного затерялась другая дискуссия, занимавшая умы отечественной интеллигенции весной и в первой половине лета — об «отмене русской культуры». Одни говорили, что теперь не время для Пушкина и Чайковского, вторые — что подобная отмена не допустима, третьи и вовсе указывали на то, что сама эта дискуссия неуместна, так как уводит фокус внимания от войны. Но интересно тут вот еще что — вся эта дискуссия велась в смысловых рамках cancel culture.
Культуру отмены многие воспринимают как новомодное западное веяние и что-то неорганичное, а применительно к русской культуре — как бездумное копирование или даже калькирование на грани карго-культа. Но это не так: в действительности культура отмены как явление лежит в сердцевине самой русской культуры — по меньшей мере, классической литературы.
Начиная с Радищева, Грибоедова и поэтов-декабристов, русская литература практически всегда существовала в двух измерениях: эстетическом и политическом. Пожалуй, лучше всех этот сугубо российский феномен объяснил исследователь отечественной литературы Дмитрий Святополк-Мирский (сын министра внутренних дел, уволенного после Кровавого воскресенья). По его мнению, парламент в России появился с большим опозданием — лишь в 1906 году. И все это время литература, и особенно литературная критика, использовались как пространство политической борьбы — по сути, как субститут Государственной Думы.
Дмитрий Святополк-Мирский
В такой оптике куда понятнее становится всё что делали и говорили воспетые позже советской школой критики, тогдашние властители дум вроде Чернышевского, Добролюбова, Писарева и прочих. По сути, это были политические блогеры, как сказали бы мы сегодня. Если развивать эту метафору, представьте такой уровень цензуры и несвободы, что оппозиционерам в России надо было бы записывать не видеоролики с расследованиями о коррупции высших чиновников, а делать рецензии на книги вроде «Петровы в гриппе и вокруг него» или «Зулейха открывает глаза» или даже, чем черт не шутит, «Лето в пионерском галстуке» — исключительно для того, чтобы эзоповым языком покритиковать правительство и высказаться по актуальной повестке. Именно в такой реальности и жила Россия десятилетиями.
Когда нигилисты у Тургенева или Достоевского сравнивают Пушкина с химией или с сапогами и говорят о «бесполезности» Александра Сергеевича, это как раз об этом. Действительно, прежде всего эстетическая поэзия Пушкина слабо подходит для политической борьбы. Точнее, там можно найти слишком много противоречий — например, оду «Вольность» с одной стороны, и стихотворение «Клеветникам России» — с другой. И ни одно из них не составляет фундамента его лирики, потому что фундамент этот лежит в общем представлении о прекрасном.
Но это литературные нигилисты, а в реальности всё было еще интереснее.
У Базарова из «Отцов и детей» было несколько прототипов, но главным, безусловно, был Николай Успенский. Тот вырос в семье священника, в детстве голодал, пил, был бит, ушел пешком до Москвы, учился на врача, бросил, увлекался химией.
Чуковский, который потратил несколько лет на изучение жизни и творчества Успенского, пишет:
Во время выхода «Отцов и детей» Николай Успенский был модным 23-летним писателем, написавшим пару радикальных рассказов об убогости крестьянского быта, — как бы в пику пасторальным «Запискам охотника» того же Тургенева.
Николай Успенский
Накануне великих реформ (и, прежде всего, крестьянской) именно этого ждала публика. Горькой правды о нищете, пьянстве и скотстве, а человеколюбивые рассказы Тургенева, которым было всего 10 лет, уходили в прошлое. Иван Сергеевич, как и все люди сороковых годов (те самые «отцы»), назывался человеком прошлого. Не чета молодежи.
Но сама ли публика этого хотела? Нет, не совсем. Ее направляли те самые литературные критики (они же «политические блогеры»), которым хотелось подчеркивать, до какого скотского состояния крестьян довели крепостники. В итоге они и ставили на первое место рассказы вроде тех, которые писал Николай Успенский. Рассказы, если честно, настолько мрачные и чернушные, что на их фоне фильмы Балабанова могут показаться розовыми комедиями.
Левая критика, которая всё «путала» литературу с политикой, после крестьянской реформы резко сменила вектор
Но прошло всего пару лет, и Николай Успенский оказался не у дел. Вышел из моды и пошел по наклонной. Бродяжничал и беспощадно пил. Всюду таскал с собой чучело крокодила и шарманку. В кабаках за пару монет он рассказывал биографии разных русских писателей и поэтов. Известно, что меньше всего денег он брал за Пушкина. И в итоге сам себя зарезал — в пьяном бреду.
Теперь лишь редкие специалисты его помнят. А мог быть одним из великих имен в пантеоне русской литературы, и школьники писали бы десятилетиями сочинения по его книгам. Что же пошло не так?
А пошло не так то, что левая критика, которая всё «путала» литературу с политикой, после крестьянской реформы резко сменила вектор. Теперь нужны, наоборот, оказались те, кто призывал каяться перед народом, воспевать народ и идти в народ. А Николай Успенский не уловил этой смены «погоды» — и продолжал писать свою «чернуху».
Редакторы и критики литературных журналов в то время действительно обладали достаточной властью, чтобы «отменить» человека — полностью, как Николая Успенского, или хотя бы частично — как Николая Лескова.
Редакторы и критики литературных журналов в то время действительно обладали достаточной властью, чтобы «отменить» человека
Это сегодня Лесков известен каждому школьнику как автор истории о Левше, подковавшем блоху, и вообще как безобидный лубочно-народный автор. Изначально же Николай Лесков был дерзким и провокационным правым писателем и публицистом.
Так, после пожаров в Петербурге в 1862 году в газете «Северная пчела» вышла статья Лескова, где он упомянул слухи о том, что поджоги совершали революционно настроенные студенты, а также поляки, и потребовал от властей подтвердить или опровергнуть их. Разразился грандиозный скандал. Эта заметка была воспринята левой критикой как донос, а самого Лескова (тогда ему был 31 год) обвинили чуть ли не в работе на Третье отделение. Удалось ли его отменить? В принципе, да. Редакции газеты пришлось срочно отправить своего незадачливого корреспондента в длительную командировку, за время которой он объехал все западные регионы империи, а затем даже побывал в Париже.
Николай Лесков
В 1864 году вышел роман «Некуда», в котором зло и едко изобралась коммуна нигилистов с весьма фривольными нравами. При этом большинство изображенных персонажей легко узнавались в среде левых деятелей: например, глава коммуны белоярцев был списан с литератора Слепцова. Левая печать продолжала отменять Лескова. Тот сблизился с правым журналом — «Русским вестником» Каткова — и продолжал гнуть свою линию. В 1870 году вышел еще один его роман «На ножах», в котором он продолжал издеваться над революционерами, изображая их, в сущности, уголовниками.
После этого романа отмена Лескова достигла такого градуса, что даже люди из его вроде бы лагеря — тот же его издатель Катков или «союзник» Достоевский — отступились от него.
Именно после этого Лесков замолчал. И вернулся уже с рассказами о святых и праведниках, с лубочными повествованиями о народе. И уже в этом, «безобидном» качестве он был допущен в национальный канон.
Лесков замолчал. И вернулся уже с рассказами о святых и праведниках, с лубочными повествованиями о народе
Если этих двух историй отмены вам недостаточно, то вы, наверняка, оцените еще одну — левые критики из XIX века были настолько влиятельны, что могли отменять куски романов даже через много десятилетий после своей смерти. В 1938 году в эмигрантском журнале «Современные записки» начали публиковать роман «Дар» Владимира Набокова, но когда дошли до четвертой главы, вместо нее появилась следующее сообщение:
«Современные записки» № 67, стр. 69 (Париж, 1938). Первая публикация романа «Дар» В. Сирина (Набокова) с пояснением: «Глава 4-ая, целиком состоящая из «Жизни Чернышевского», написанной героем романа, пропущена с согласия автора. — Ред.»
Что это за глава? Это, скорее, биографический фельетон, едкий и обидный (как у Лескова, только, пожалуй, тоньше и талантливее) про главного «политического блогера» русских революционных литераторов — про Чернышевского.
Для Набокова (точнее, для его героя, но тут точно нет никаких различий) Чернышевский — не просто персонификация творческой бездарности, но и любимый автор Ленина. Устами героя Набоков проговаривает очевидное: Чернышевский живет в мире политики и утилитарности, для него не существует эстетики, и именно такой взгляд на литературу и ведет к большевистской революции и массовым репрессиям.
Кстати, по сюжету романа этот текст не публикуют за его «оскорбительность». Получилось самосбывающееся пророчество. Дело в том, что журнал тоже был умеренно-левым, и редакция «Современных записок» отказалась публиковать вставной текст о Чернышевском, приводя примерно те же аргументы, что предсказал сам Набоков в романе («Есть традиции русской общественности, над которыми честный писатель не смеет глумиться»).
Сам Набоков по этому поводу сказал:
Думаю, если бы Набоков жил в наши дни, он призвал бы не спорить до хрипоты о культуре отмены — в русской литературе она была всегда, — а продолжать искать красоту там, где красоту можно найти. Ведь дело не в том, чтобы доказать, что Пушкин лучше сапог, а в том, чтобы вообще не доходить до таких сравнений.
И будьте в курсе первыми!